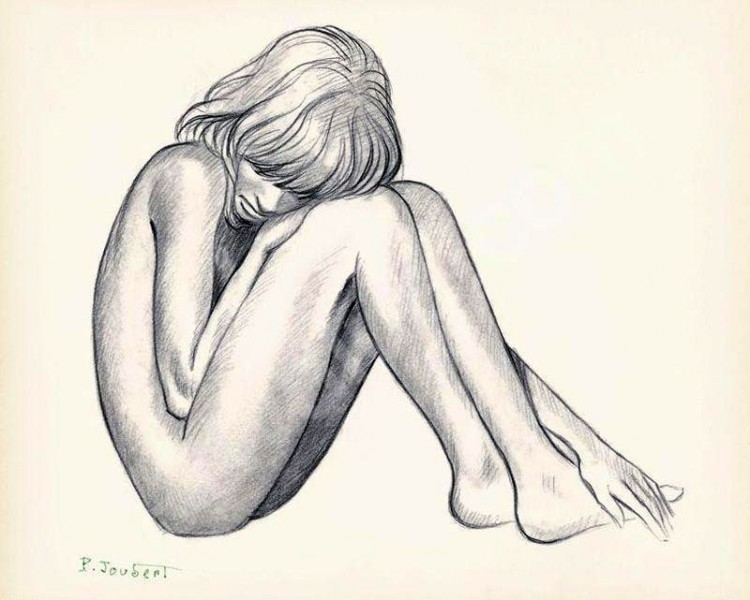WildKids » Этнография детства » Искусство » Книжная полка » Шорох времени часть 2-я
Шорох времени часть 2-я
Автор: admin от 3-05-2016, 20:26, посмотрело: 2 568
0 ПРОДОЛЖЕНИЕ. Читать начало...
Жизнь Тима изменилась совершенно. Он с некоторым удивлением обнаружил – все свои двенадцать лет он вообще не знал, что такое настоящая радость, и даже привык к зябкому существованию, словно так и должно быть. Только теперь он ощутил, как на самом деле был одинок. Нет, лет до пяти он себя не помнил, но потом… Мама не в счет, мама есть мама, но вот друзей у Тима толком не было никогда. А мечта о настоящем, самом-самом близком друге была. Видимо, он подчерпнул ее из книжек или кино. Впрочем, перед школой было наметился у него такой друг. Тим был хилый и тощий для своих семи лет, а Витька Кишкин наоборот силен и широкоплеч. Почему-то они сошлись – может быть, Витьку нравилось проявлять благородство и заботу о тонконогом, лопоухом хлюпике, чувствовать себя сильным и смелым на фоне тимовой трусоватости. А может просто забавляли истории из книжек, которые Тим уже тогда любил и умел пересказывать.
Но дружба их продлилась недолго – оказалось, что Тим двоечник и помеха всему классу, да еще малость психически нездоров. Родителей просветили о тимовых грехах на полугодовом собрании в школе. А Витьку дома пороли, и маму он боялся страшно. И все же, когда Витькина мать категорически запретила сыну якшаться с «этим дурным татарчонком», они попробовали дружить тайно. Но постепенно дружба растаяла…
Второго друга Тим обрел совсем ненадолго – в лагере, куда отправился в первый и последний раз в девять лет. Оказалось, что лагерь – это ужасно, Тим рыдал и худел почти неделю. А потом встретил Лешку Шишкина, и два одиноких, брошенных детеныша сплелись в настоящий союз, хотя и были в разных отрядах. Однако смена закончилась, и Лешка превратился сначала в теплое воспоминание, а потом и вовсе почти исчез из тимовых мыслей.
Потом были приятели. Они ходили друг к другу в гости, вместе строили штаб в парке. Но в любой драке каждый был сам за себя. Одного били, другие смотрели. Позже, в шестом классе, приятели увлеклись играми с девочками. Тиму пересказывали сальные истории, в которых вранья было напополам с правдой. В классе трех девчонок почему-то решили считать шлюхами, хватали за разные места, за что огребали звонкие пощечины. И все же ощущалось, что избранницам даже такое внимание приятно. А неизбранные прятали досаду и зависть за показным возмущением «пошлым поведением мальчишек». Впрочем, основное действо начиналось вечером, с первыми сумерками. Девицы выходили на променад, навстречу им двигалась ватага мальчишек, при виде которых раздавался визг, потом возникала непродолжительная погоня. Заканчивалось все почему-то в самых укромных местах, где мальчики получали полный доступ к свежесозревшим прелестям. Звали с собой «полапать шлюх» и Тима, но он стыдился такого. Ему была неприятна любая похабщина – даже в анекдотах и историях, а в кино во время постельных сцен он закрывал глаза. Как-то неприятно было смотреть на интимную жизнь героев – будто забрался в спальню к родителям и подглядываешь… Нет, порнуху Тим смотрел и даже испытывал все, что было положено. Но там-то героев как раз не было… Своих последних приятелей он растерял год назад и становился все больше чужим и даже инородным среди одноклассников.
Дружба к Владу пришла так, как к другим приходит любовь. После уроков Тим ждал Влада – тот, понятно, заканчивал позже, и Тим честно высиживал час или два. Сначала в холле, он был уверен, что Влад будет стесняться такой мелкоты, как он. Но тот, казалось, наоборот, даже гордился Тимом. Поэтому вскоре Тим стал подпирать двери, где шли уроки у десятиклассников. А потом они отправлялись Владу домой и кормились обедом. Тим смущался так нахально лопать каждый день за чужой счет, но ему объявили – моделям принято платить и пусть это будет вроде вознаграждения за три часа неподвижного сидения в странных позах на сооружении из столов и стульев. Которое на картине превращалось волшебным образом в тяжелую, сырую скалу. Пока Влад работал, он развлекал Тима рассказами о художниках, которые оказались людьми, мягко говоря, странными. Гений Ван-Гог отрезал себе ухо и чуть не убил гения Гогена, который сбежал на острова и женился на совсем маленькой девочке, почти ровеснице Тима. При том оба писали потрясающие картины, при жизни картины никто не понимал и не покупал, зато теперь они стоят сумасшедших миллионов. Тиму стало казаться, что все художники немного того. Например, Влад оказался совершенно не такой, как на их первой встрече. Дома с него будто шелуха опадала, из-под грима сурового и грубого парня проявлялась тонкая душа артиста. Он совершенно переставал материться, а с Тимом обращался как с равным, и только иногда легкая властная нотка проскальзывала в его прикосновениях, когда он вылеплял из тимова тела то, что видел своим внутренним взором и хотел воплотить на куске материи, натянутой на деревянную раму.
Казалось, что такая утонченная натура не может пользоваться авторитетом в суровых отношениях, которые обычны в школьно-дворовой среде. Однако это было совсем не так, и сначала Тим ломал голову над этой загадкой. А потом Влад ему рассказал, как тоже раньше нещадно трусил, а потому стал фанатом и много дрался на футбольных матчах. Собственно, в фанаты его занесло из-за желания преодолеть страх. Оказалось, драться не так уж страшно, если ты не один и рядом бьются твои товарищи. В школе Влада еще боялись и потому, что фанаты люди безбашенные, да и дружки, с которыми Влад шарился на матчах... Были они много старше и всегда рады помочь кулаками, а то и чем-нибудь посерьезнее. Эта откровенность, с которой Влад посвящал маленького и почти чужого мальчишку в свое самое сокровенное, отдавалось у Тима внутри теплыми толчками счастья. Именно так представлял Тим настоящую дружбу, о которой много читал в романах, еще больше мечтал, но никогда раньше не встречал ни в реальной жизни, ни в своих снах…
А потом начиналось самое клевое, когда можно было просто болтать обо всем и дурачиться на диване в шутливой борьбе, из которой Тим всегда выходил победителем, садясь верхом на поверженного врага (он понимал, что противник борется в четверть силы, но почему-то азарта и восторга от этого понимания меньше не становилось). В выходные Влад потащил Тима в Третьяковку и Пушкинский, было интересно, не то, что на школьной экскурсии. Влад мог рассказывать о художниках бесконечно, и не только о художниках, но и о картинах, о технике каждого полотна, о красках, казалось, не было такой темы в изобразительном искусстве, где бы у Влада не имелся десяток завлекательных историй. Которые можно было слушать открыв рот. А в дальней перспективе осенних каникул уже маячил Эрмитаж, единственный, по словам Влада, музей действительно мирового уровня в России.
Влад жил один – то есть, не совсем и не всегда, но часто, так как родители его шастали по заграницам. Раньше маленькому Владу приглашали няню, но потом случилось два казуса, после которых родители подумали, что, пожалуй, лучше уж мальчику одному. Одна из нянь, довольно молодая девица, пользуясь возможностью порезвиться в шикарных апартаментах, стала приводить по ночам парней. Маленький Владик стал свидетелем довольно-таки откровенных сцен плотской любви и потом проявил не дюжую осведомленность в школе. Перепуганная мамаша одного из просвещенных им учеников прибежала с жалобой, когда их дитя притащило пачку гандонов с лимонным запахом, выигранную, как выяснилось, в порнографические карты. Няня была уволена со скандалом (Влад сильно жалел тогда, ибо именно эта была невредная).
Взамен взяли пожилую, сурового вида даму с рекомендациями. В результате квартиру обворовали – мадам по совместительству работала наводчицей небольшой шайкой уголовников. Это произошло, когда Владику исполнилось тринадцать. Было решено, что мальчик вполне самостоятелен, чтобы просуществовать без взрослых неделю. Неделя превратилась в месяц, потом в два – Владик вполне успешно доказывал, что уже созрел для самостоятельной жизни. Впрочем, в школе он был одиноким волком, домой никого не водил, а художественный промысел подразумевал жизнь спокойную и размеренную… Его фанатские экзерсисы с побоищами были за рамками той жизни, о которой известно родителям. Да и среди фанатов у него были соратники, а не друзья. Тим оказался первым, кого Владик подпустил к себе по-настоящему близко, и кто был вхож в огромную квартиру бывшего генерала в монументальном сталинском доме, так не похожем на Тимову хрущевку. Надо заметить, что Тим остро ощущал разницу в материальном и социальном статусе – стеснялся своих рваных кроссовок и старых джинсов, почти полного отсутствия денег на самые насущные нужды – у Влада, казалось, денежных проблем не было вовсе. Впрочем, Влад как-то легко задавил эти тимовы смущения, и скоро Тим оказался почти на его иждивении. Начиная от булочек в школьном буфете и кончая новыми кроссовками, которые были водворены в принудительном порядке на его ноги, постоянно мокнущие в осенних лужах. «Если ты заболеешь и умрешь, как я смогу закончить картину?» – Владова логика показалась Тиму убедительной. Тим, правда, не знал, что Влад сам зарабатывал неплохо – одно время даже рисовал портреты на Арбате, а потом стал брать заказы от продавцов с Вернисажа, так как писал всегда качественно и в абсолютно любом стиле – хошь готика с голыми бабами, хошь кубизм, а хочешь – кружевной натюрморт с цветами и вазами. Серафимыча пугала эта его пластичность, способность быть не самим собой настолько, что невозможно было обнаружить оригинальный почерк. Влад и сам страдал от своей привычки перенимать чужое – и картина, которую он писал сейчас, все время пыталась укатиться в сторону врубелевских полотен. Тим об этих творческих муках и не подозревал, а Владовы таланты ему казались чудом, особенно после собственных безуспешных попыток изобразить на бумаге хоть что-нибудь стоящее.
Одно лишь его тревожило – не надоест ли он Владу и что произойдет, когда картина будет окончена? Впрочем, это было в совсем туманном будущем, пока лишь писались эскизы на небольших картонках. Еще Тима волновало позирование обнаженным, и вовсе не из-за холода. С некоторых пор одна часть его тела вела себя совершенно независимо и неуместно, особенно стоило ему раздеться. Понятно, рассказать такую интимную и позорную подробность своей жизни Владу он не мог, но решил, что наденет тугие плавки, дабы сокрыть постыдную физиологию.
Все, однако, произошло неожиданно – в понедельник Влад вдруг поставил включенный электрокамин и попросил Тима обнажиться. Когда Тим встал перед ним в семейных трусах, Влад его покрутил так и эдак, хмыкнул и вдруг решительно стянул него эту последнюю защиту…
«2.10.20… Я стал растлителем )) Выяснилось, отчего он так боялся раздеваться – у него постоянный стояк, которого ужасно стыдится. Стал красен, как светофор и слезы из глаз, будто луковицу сжевал. Я его утешал, что это естественно для мальчика, когда половое созревание. Потом пройдет. Оказывается, он никогда не онанировал (из-за того и страдает). Пришлось провести маленький секс-ликбез о необходимости дрочки. Объяснил, что яйца переполняются спермой, которую надо спускать, примерно также, как и ходить в туалет по маленькой нужде. Когда сперма требует выхода, то встает. Он удалился в туалет и вернулся минут через пять потный и вялый. Все было в порядке, только без настроения. Сказал, что противен сам себе. Я вспомнил детство и объяснил, что минут через тридцать пройдет. И действительно прошло. Потом мы хорошо поработали, и у него отличное тело – все-таки три года занимался спортом. Нет, он не мускулистый – но и не полная лапша, а такой, каким и должен быть мальчик в его возрасте.
PS. Было бы прикольно, если бы мой чертенок на картине онанировал, но это уже порно, наверное. Во всяком случае, такое никому не покажешь. Я же хочу закончить картину к конкурсу юных талантов, который Серафимыч обещает в январе. Он очень настаивает, чтобы я обязательно принял участие. Пророчит если не победу, то хотя бы диплом. С дипломом легче поступать, но я еще не решил, хочу ли я на самом деле быть художником – профессионалом. То есть я уже профессионал – зарабатывал же портретами на Арбате, да и на Вернисаже, опять же писал под заказ (правда всякую лабуду). По-моему, профи сейчас как раз лабудой и занимаются, я же хочу творить для искусства, как это делал Ван-Гог, не продавший ни одного полотна…
Серафимыч заценил мои эскизы к «Маленькому демону», но как-то странно заценил… По-моему, он просто боится ставить мою работу на всеобщее обозрение. Интересно почему? Идея картины ему вроде нравится, но он краснел, бледнел и мялся, как дошкольник, стащивший у родителей презерватив и пойманный за надуванием сего предмета. Впрочем, картину я напишу, что бы он не думал и не говорил. Пролечу мимо выставки и фиг бы с ней. Тим меня пугает последние дни – он незаметно становится моим зеркалом. Ходит как я, говорит как я, даже рисовать пробует (безуспешно). И я себя пугаю сам, так как стал привязываться к этому мальчишке. Но ведь в конце концов это все закончится – картину я допишу к весне. И что потом? ...»
В некоторые дни Влад пропадал, и тогда Тиму приходилось сидеть дома. Странно, что проведя все свои двенадцать лет в одиночестве, теперь он от одиночества моментально впадал в тяжелую тоску. И еще почему-то раздражало, что у Влада есть тайна, недоступная даже их дружбе. Впрочем, ведь и у Тима была тайна. Дома быстро становилось невыносимо, и он уходил шататься по улицам. Шататься было холодно, и Влад в один прекрасный вечер обнаружил Тима приютившимся на лестничной клетке.
– Ты че здесь?
– А че, если ты шляешься?
– Не шляюсь…
«…В среду притащил мелкого в студию. Не знаю, что на меня нашло, ведь про это я никому никогда, это мое святое место, моя ритуальная поляна в первобытных джунглях, мой храм для камлания и колдовства... Там живет второй Влад, нет, не Влад, а Славик, милый, добрый, который не знает матюгов и не машет кулаками. Притащил и пожалел… хотя мелкому было интересно, Серафимыч ведь еще и скульптор, и у него дикие работы, помню, как сам ходил оглушенный первый раз. Особенно все эти инсталляции, весь новодельный сюр… Но Серафимыч как-то сразу напрягся, хотя старался быть радушен, но такое измученное, выдавленное было это радушие. Остальные тоже косо на меня смотрели. Однако чай пили вместе и к вечеру немножко рассосалось…
А сегодня имел с Серафимычем вполне дебильную беседу. Он сказал, чтобы мелкого больше не было. Никогда. Я не понял, почему. Он предложил надеть на Демона шаровары. Я не понял – зачем. Он объяснил. Это достаточно гадко. Он боится, что обвинят. В педофильстве и растлении малолетних. Я честно пытался его понять. Серафимыч там побывал в старые времена за выставку какого-то авангарда. Его тогда били. Не следаки, а в камере, как антисоветчика. Наверно, это страшно. И еще, по-моему, он мне не верит. В смысле моих отношений с мелким, впрочем, про это моя фантазия. Я спросил – а как же Микеланджело и Да Винчи. Он сказал – тогда времена другие были и попросил пожалеть его седины. Я жалею и мелкого туда больше не веду. Но штаны надевать не буду. Ладно, буду писать, как когда-то выражались, в стол…»
Самое удивительное в дружбе – это откровенные признания, когда можешь доверчиво поведать то, о чем никому другому никогда и ни за что… Самые стыдные тайны, самые потаенные мысли и желания. Первый их такой разговор был после тимова позора, и Влад честно рассказал, как и сам маялся раньше, как всякий раз после ЭТОГО давал себе слово и не мог сдержать. Как был себе отвратителен, как стыдился почему-то героев книг, которые, уж конечно, никогда ТАКИМИ гадостями не занимались… Влюблялся ли Влад? Да, было. А ЭТО было? Было и ЭТО. И как? Да ничего особенного, то есть кайфно, конечно, но не так, как представлялось. Думал, будет блаженство. Обломался, чуть-чуть получше дрочки, и потом чесалось долго, зуд ТАМ был ужасный, сколько не мыл.
Потом разговоры про более насущные мальчишеские проблемы. Как был ужасным трусом и потому пошел в фанаты. И победил страх, хотя драки так и не полюбил, равно как и футбол. Как в санатории мальчишки нассали маленькому еще и тихому мальчику в постель, и утренний позор под общий ржач. А санаторий был на юге, домой не убежишь. Но Владик ушел оттуда все равно, благо было тепло днем и ночью. Прибился к каким-то туристам на диком пляже и преспокойно отдыхал неделю, в то время как в Геленджик из Франции в срочном порядке прилетели родители, водолазы обшаривали морское дно, а директор санатория лежал в больнице с инфарктом. После этого случая его в казенные учреждения больше не отправляли… Как влюбился в шестом классе и страдал, когда она целовалась с другим. Впрочем, про его любовь никто так и не узнал… Как в 13 лет встретил на вернисаже Серафимыча и отважно поехал к нему в мастерскую, поехал с замиранием души, ибо наслушался историй, что делают с пацанами незнакомые дядьки…
Тиму хотелось рассказать Владу про главное, про свои сны, но всякий раз, когда уже казалось слова совсем рядом, что-то его останавливало... Не только страх, что его сочтут психом. Тим боялся сделать тот мир вещественным, перевести из страны фантазий в сегодняшнюю реальность.
…Мараканда - большой, шумный город - потряс Тима. Только базарная площадь была больше, чем тот поселок, где он вырос. Дворец с фонтанами, пышными садами, комнатами в пушистых коврах с вычурными мангалами и вазами, рабы, низко кланяющиеся ему – все потрясало непривычностью и неведомым до того размахом. Целая конюшня великолепных коней, черных, как деготь и белых, как цветок каштана, соколятня с двумя десятками разнокалиберных птиц от крохотного дербника до степного орла с размахом крыльев больше метра, зверинец с гепардами, антилопами и павлинами, оружейная с мечами, копьями, булавами, луками и доспехами - все это богатство свалилось на Тима неожиданно и неотвратимо.
Поначалу Тим часами бродил по дворцу. Иногда он мог подолгу разглядывать одну какую-нибудь вещь - кинжал, или книгу с кожаными страницами. Читать на древнем языке, которым были написаны книги, Тим не умел, но ему нравились причудливые завитки букв, запах старой кожи и узоры, богато украшавшие переплет и страницы.
В Мараканду Тима привезли по распоряжению деда. Дед, властитель Маннерварханна, страны, между двумя великими пустынями, вел войну где-то на востоке. Тима доставили во дворец и предоставили самому себе. Он бродил по городу в сопровождении мускулистого темнокожего раба, вооруженного плетью, ездил верхом в сопровождении того же раба в недалекие горы, и был совершенно одинок.
Иногда к нему приходил Нгармэнси, евнух, управляющий дворцом, и спрашивал нет ли каких-нибудь пожеланий у Его милости. Пожеланий не было.
Лишь одна часть дворца была запретной – отделенная от всего остального высокой стеной, она охранялась рослыми евнухами, которые склонялись перед Тимом, но несмотря на его настойчивое любопытство, не пропускали его сквозь запретную чугунную дверцу. Тим знал, что за стеной гарем – женщины властителя Маннерварханна. Когда-нибудь заветная дверца откроется и для него, когда-нибудь он вырастет и сам станет властителем этой страны и получит свой собственный гарем.
Совсем недавно Тим открыл, что женщины не просто второсортные существа, которые работают по дому, следят за детьми и скотиной, накрывают столы для мужчин – женщины, оказывается, полны тайной красотой. Она манила его воображение, округлые груди, колыхавшиеся под легкой тканью, вызывали странное волнение, от которого сердце трепыхалось и стучалось о ребра, кровь приливала к лицу, и становилось почему-то стыдно. Тиму с некоторых пор нравилось смотреть на девушек. Когда он еще жил в селе, один раз он был пойман подглядывающим за купающимися девушками на речке и нещадно выпорот.
В другой раз Тим с мальчишками видел, как в сарае пьяный дядька-сосед валял служанку-рабыню. Дерганье голой дядькиной задницы между ног служанки показалось Тиму непривлекательным. Неужели ему тоже когда-нибудь придется делать ЭТО? Наверно придется, ведь иначе у него не будет детей. Хорошо, что ему еще не скоро жениться... А вот смотреть на девушек Тиму нравилось, он любовался их ловкими движениями, покачиванием вожделенных полукружий, мягкими очертаниями тел. Тиму очень хотелось заглянуть за запретную стену, ведь женщин во дворце, кроме как там, не было. Часто из-за стены раздавался веселый переливчатый смех и у Тима начинало трепыхаться сердце. Тим даже думал, не перелезть ли как-нибудь тайком через стену. Но неожиданно вернулся дед, и жизнь Тима опять переменилась…
Еще Тима учили убивать. Раб, который раньше был телохранителем, учил его искусству убивать голыми руками. Убивать можно было множеством разных способов. Сила была не обязательна, нужны были ловкость, решительность и знания.
Раба звали аль-Гасанга, у него был отрезан язык, и он принадлежал к курту ночных убийц. Ночные убийцы врывались в стан спящего врага почти без оружия и наносили страшный урон. Каждый день Тиму приводили молодых сильных рабов, и Гасанга половину из них убивал, показывая, как это надо делать. Остальных рабов должен был убить Тим. Рабам давали дубины, они бросались на Тима, а он должен был их убивать по всей науке. Молодых рабов ему было немного жалко, поэтому Тим иногда оставлял их в живых, только лишал сознания. Гасанга тогда сокрушенно качал головой. Раньше Тим много дрался с мальчишками из села. Но то, чему учил его Гасанга, не было похоже на обычную драку…
Основным в искусстве Харасанги – дождевых капель – была техника ускользания. Когда тебя хватают, надо было расслабить тело и почувствовать себя каплей воды. Если ты превращаешься в каплю, враг не сможет тебя ухватить или ударить. Попробуйте схватить дождевую каплю – она все равно выскользнет из пальцев. А потом надо было бить. Бить можно было любыми частями тела - локтями, коленями, головой. Важна была не сила, а ловкость и точность. Поэтому маленький мальчик с помощью искусства дождевых капель мог победить взрослого воина.
Днем был перерыв, пока жара не спадет, а дальше снова занятия до темноты. По темноте Тим изучал астрономию. Астрономии учил лично дед. Они уходили в обсерваторию – каменное сооружение в самом дальнем конце дворцового сада. Дед был строг и требователен. Тиму трудно давалось заучивание названий звезд и созвездий, но дед не отпускал его, пока он не запоминал странные, трудновыговариваемые слова из чуждого языка, которыми именовались яркие точки на черном куполе. Сначала Тим учился находить звезды на карте, потом искал их в небе. Он порой думал, зачем ему знать тонкости движения небесных светил. Не то, чтобы ему это было не интересно - Тим был довольно любознательный. Но если необходимость науки убийства была понятна, то геометрия и астрономия казалась бесполезной, хотя занимательной и забавой.
…Между тем домашняя жизнь ЗДЕСЬ тоже изменилась. Мама собралась замуж. Такой подлости от самого близкого человека Тим уж никак не ожидал. Раньше он ощущал себя центром их маленькой вселенной и как-то привык, что мамина жизнь вращается вокруг него как Земля вокруг Солнца. Все это рухнуло, когда в квартире появился дядя Жора, как он назвался Тиму. Был этот дядя ростом невелик (маме до уха), с вечно красной физиономией, непьющ, некурящ, и грубоват, так как работал прорабом. Интеллигентный Тим грубость во взрослых не терпел, хотя для своих ровесников считал ее необходимой и естественной. Тим был выселен в проходнушку по понятной причине – и не сопротивлялся, так как до дрожи сам боялся увидеть что-то неподобающее. Видеть – не видел, но, увы, уши никуда не делись – и от ночных звуков, доносившихся через тонкую стенку, становилось тошно. Дом перестал быть убежищем, родной норой, где можно было раньше укрыться от всех невзгод жизни. Тим приходил туда только спать – уроки он приспособился делать у Влада, тем более тот лихо щелкал задачки из школьного учебника по запущенной Тимом алгебре. Мама, похоже, была только рада такому повороту событий – отпрыск почти не мешал строительству нового гнезда. К своему отвращению Тим обнаружил, что мама еще была и беременна…
Этот странный разрыв отношений с мамой Тим пережил остро, но тихо и скрытно. Психология женщин мальчику была неведома, а предательство есть предательство, как его не пытайся объяснить и оправдать. Нет, мама продолжала заботиться о нем, спрашивать о делах в школе, кормить и обстирывать. Но чуткое нутро Тима улавливало с точностью чувствительного прибора – он стал немного лишним на этом новом празднике семейной жизни. Свою боль Тим отрыдал у Влада, и боль эта не то, чтобы прошла, но больше не жгла раскаленной иглой, а опустилась на дно, подзатянулась илом, и уже давала жить, дышать и даже смеяться.
«Женщины всегда есть женщины», - только и сказал Влад, сидя рядом с опухшим от слез Тимом, - «Привыкай».
«…Вчера позвонил Серафимыч. Спросил, как у меня с мелким. Я сказал, нормально. Попросил привести. Обязательно. Я удивился. Привел. Короче, у Серафимыча заказ. Нужен натурщик, мальчик, восточной внешности. Видимо, хороший заказ, наверняка для новорусских дворцов. Там у них самые дикие идеи. Одалиски, гаремы, евнухи… Росписи по потолкам. Короче, мелкий ему оказался в самый раз, что надо. В общем, удача всем… Правда, мелкий теперь натурит семь раз из семи. Но вроде ему по-кайфу, тем паче Серафимыч его развлекает своими байками, а заодно и всех нас. Потом пьем чай и треплемся про жизнь…»
…Общение с Владом было здорово, но открывшийся ему мир совсем других людей и других отношений ослепил великолепием новизны и необычностью разговоров, дружбой не вдвоем, но со многими. Здесь никто не пытался показать себя и блистать на фоне других, не было громкой крикливости в разговорах и бесконечного «Я… я… я…», таких обычных для школьных тусняков. Здесь было принято слушать, а не стараться перекричать всех самому. И разговоры были так не похожи на всё прежнее, открывали то, о чем мальчик раньше и не догадывался: искусство, да, но было и другое, что так важно детской душе – размышления о смысле этого мира, добре и зле, несправедливости и жестокости. Тим давно заметил, что взрослые не слишком-то любят слушать детей, предпочитая вещать и поучать. Здесь было иначе. Серафимыч говорил редко, а к любому относился как к равному. Даже к Тиму, который остро ощущал свою бестолковость в тонких темах всемирной философии.
Тим ходил в эту удивительную студию как на работу – четыре раза в неделю. Видимо, у Серафимыча здорово горело, но эксплуатировать мелкого семиклассника он побаивался. Позировать Тим привык еще у Влада, и теперь это было хотя и тяжело, но несложно. Во всяком случае наготы он не стеснялся, да и рад был чувствовать себя «своим», пусть не художником, но тоже занятым чем-то важным для местной компании. В отличие от Влада старый художник не требовал неподвижности, разрешал каждые 15 – 20 минут размяться, ну и развлекал мальчика веселыми историями из своего детства и молодости, запас которых казался неисчерпаемым. Во всяком случае Серафимыч за две недели не повторился ни разу. Порой Тиму приходилось сдерживать все силы, чтобы не хохотать. А иногда он не выдерживал, и тогда Серафимыч терпеливо ждал, посмеиваясь, пока голый Тим отхохочется всласть и перестанет дрыгать ногами и кататься по полу, застеленному стареньким, лысым ковром.
Через три недели Тим ощущал себя совсем своим, и тут Серафимыч проделал то, что с начала вызвало волну ужаса, зато потом подняло мальчика в глазах всего местного общества.
– Что мы с тобой все одни да одни, – сказал Серафимыч, – давай-ка и ребятки на тебе потренируются. А то натурщиков нам брать неоткуда, а писать друг друга у художников не принято – примета дурная…
И в комнату пришли все, а Тим обмер от ужаса. Во-первых, одно дело не стесняться один на один, и совсем другое – когда тебя разглядывает целый коллектив, пусть не ровесников, но все равно еще мальчишек и девчонок. На самом деле девочка была только одна, да и та такая, что Тим и не сразу опознал в ней особу не своего пола. Тяжелая, грузная, бритая наголо, с низким, хриплым, прокуренным голосом, Ольга больше походила на дворового хулигана, или же на боцмана с пиратского брига, если добавить фантазии и романтики. И все же… Тим был не совсем маленький, и уже темный пушок начинал пробиваться над непослушной плотью. Его, правда, было маловато, но показать такое девчонке, пусть и пиратке, было ужасно…
Все это мелькнуло в голове помертвевшего Тима, пока компания тащила мольберты и этюдники. Но и позорно протестовать, бежать или прикрывать постыдное место он не мог. Однако ничего ужасного не ощутил, даже когда Серафимыч поставил его перед всеми и стал рассказывать что-то о костях и мышцах, приправляя повествование выкладками о золотом сечении, перспективе и еще каких-то чисто профессиональных тайнах.
А потом последовала краткая речь, в которой было все разъяснено – малевать картинки можно и зайца научить, а вот быть натурщиком – профессия тяжелая, редкая и благородная. Тим почувствовал, как уши наливаются приятным жаром – не каждый день такое услышишь о себе любимом.
Правда, позировать стало сложнее – теперь нельзя было позволить себе переминаться, чесаться и прочим образом подрывать то, что сразу сделало его равным в этой компании. Тело мгновенно наливалось свинцом, а потом и болью. Он едва выдерживал двадцать минут до разминки, а ведь натурщики преспокойно сидят и по два часа… Рисовали его усердно, а Серафимыч ходил и советовал, а иногда перехватывал уголь или карандаш, правил непослушные линии. Работать с обнаженной натурой ребятам оказалось сложно.
Единственный, кто не принимал участие в этом уроке, был Влад, уж он-то имел голого Тима сколько душе угодно, а потому мог себе позволить просто рассматривать чужие рисунки. Тем более, что и способностей имел, как казалось, гораздо больше.
Потом Тим разглядывал странную выставку картин, где всюду был только он… И поразился, насколько они разные. Но одна, нарисованная той самой пираткой-хулиганкой, возмутила до глубины души. Ибо на ней мальчик занимался… сами понимаете, чем. Ольга вообще была страшной язвой, и тут не упустило своего. Но главное, нарисовано было мастерски… Тим потребовал порвать рисунок. Ольга протянула ему лист с насмешливой улыбкой – дарю, рви. И он не смог, а рисунок убрал в свой рюкзачок. Школьный. Дома, конечно, такой компромат ни к чему, но можно было ведь оставить у Влада…
А на другой день случилось крушение. О рисунке Тим напрочь забыл, утром схватил рюкзак и вперед. И тут как назло при входе устроили шмон – последнее время говорили, что таскают ребятишки на уроки спиртное, коноплю и чуть ли не пистолеты. Рисунок обнаружили и загремел Тим прямиком в кабинет к директриссе, особе тупой и злобной (во всяком случае именно такой ее считали, за что метко окрестили Кобылой по созвучию с не слишком притязательной фамилией Кобылец.).
– Рамбаев, чьи это художества?!
– Это не ваше дело! Это мое! Не имеете права брать!
– Ты еще о правах порассуждай! Это детская порнография! Ты вообще понимаешь, в чем ты участвовал? Это же оргия!
– Да ни в чем я не участвовал!
– Рамбаев, я звоню в милицию! Следствие разберется, кто тебя растлевает!
– Да не в чем тут разбираться! Я сам нарисовал!
– Вот лгать не надо! Это профессиональная работа! Написана на продажу! Ничего, следствие быстренько разберется! И поедешь в колонию.
– Для колонии я еще возрастом не вышел!
– Да, грамотные нынче стали. К твоему сведению, есть сейчас закрытые школы для тех, кто возрастом не вышел. И там не лучше, чем в колонии. Знаешь, что с такими, как ты, там делают? Ладно, решай, сам скажешь или на следствии?
В этот момент в кабинет заглянул Юрочка.
– Юрий Евгеньевич, полюбуйтесь, какие картинки дети теперь носят в школу!
– Ого! Не слабо…
– Рамбаев, так ты будешь рассказывать, кому позировал?
– Нет!
– Татьяна Федотовна, да я знаю, кто автор этих художеств. Кокарев из 10-го б. Они уже больше месяца как влюбленная парочка, – Юрочка масляно усмехнулся, – мда, современные дети…
Говорить, что рисунок делал не Влад, Тим не стал, понимал, что будет только хуже.
Кобыла сразу остыла. Тим, конечно, не знал – почему, ибо во взрослой жизни смыслил мало. Однако Татьяне Федотовне всё представилось теперь иначе – во вверенной ей школе двое детей совершали аморальные проступки, или даже преступления… А куда смотрели учителя? Где был директор? Как организована воспитательная работа в этой самой школе, если дети творят такое? Пожалуй, тут могло пахнуть даже не выговором, а увольнением… Сразу пропало желание звонить в милицию и даже родителям.
– Вот что, Юра… Юрий Евгеньевич, пригласите сюда Кокарева… и Антонину Тимофеевну.
Антонина по прозвищу «Антоша» была школьным психологом, уже пожилой и глубоко уставшей от жизни дамой. Она появилась в кабинете первой…
Влада у директора Тим так и не увидел – был препровожден Антошей в тихую, маленькую комнату под лестницей, с мягкими креслами и цветочными горшками, от которых веяло тропиками – не настоящими, конечно, но все же…
– Как тебя зовут? Ах да, Тимур… Тимур, ты ведь еще молод и многого не знаешь. Для мальчиков твоего возраста такие отношения совсем не полезны. Скажи, как далеко вы зашли? Анальные отношения? Оральные?
– Да не было у нас ничего!
– Подожди, не горячись. Я ведь по рисункам вижу – этот старший мальчик… да, Владик, он – ну давай откровенно, – ты ему нравишься. Не как друг. Совсем не как друг. Ну подумай, какой может быть интерес у взрослого мальчика, да не мальчика даже – юноши, к такому, как ты, еще совсем ребенку? Владик сейчас должен за девочками ухаживать, а он все время проводит с тобой, ведь так?
– Ну и…
– Из школы вы ходите вместе? А домой он тебя провожает?.. Подарки дарит?.. Дарит. Другие юноши так ведут себя с девочками, и это называется – ухаживать. Мы ведь не хотим тебе зла, мы хотим уберечь. Ты вырастешь и потом будешь вспоминать со стыдом о своем детстве. И это в лучшем случае. А в худшем – ладно, раз уж у нас разговор откровенный, – в худшем станешь таким же и будешь влюбляться в мальчиков.
– Да я…
– Послушай, Тимур, расскажи все откровенно, а я обещаю – никому. У нас тоже, как у врачей, есть обязанность хранить тайну. Ну скажи, что между вами было?
– Да он же художник, просто рисовал с меня, ну ему какую-то картину надо к конкурсу, вот. А это просто эскизы, ну просто так, шутка… Честное слово, он только рисовал!
– Да, только рисовал-то он тебя голого… – участливый тон у Антоши исчез, и теперь Тим ощутил ее усталость, равнодушие и раздражение на его, тимову, неподдатливость. Тим понял – и Антоша, и Юрочка, и Кобыла твердокаменно уверены, что всё у них с Владам было, и никакие слова тут не помогут.
– Ладно, иди пока на уроки, но потом обязательно зайди ко мне…
На перемене Тим хотел найти Влада, но столкнулся с Воланом, который уже издалека нахально и прицельно нащупывал Тима взглядом.
– О, петушка! Попка не болит?
– Не, Волан, у него рабочая, Владик-то его кажный день чпокает…
– Губы оближи, а то засохло…
– Жопу рвать, красным срать…
– Петуший удел. Ладно вам, парни, пидорасы – тоже люди.
– Ха, не зря кликуха бабская… Можа и мне сосанешь, Тата?
В ту же перемену Тим из школы ушел. Куртку забрать не получилось – баба Валя охраняла раздевалку не хуже сторожевого пса. Было холодно, но представить себя среди глумящихся рож он не мог, хоть его одноклассники и не отличались излишней злобностью. Впрочем, в таком исключительном случае они бы своего не упустили. Очень хотелось забиться в темную нору и нареветься всласть, выплеснуть все обиды и унижения этого дня… Но угла не было. Дома чертов дядя Жора, который всю последнюю неделю работал по ночам, да и то через раз. Жизнь, собственно, была кончена – появиться в школе Тим больше не мыслил, а как жить дальше – не знал. Оставалось глотать слезы, и Тим шел по привычному пути к дому Влада, хотя никаких встреч и объяснений не хотел. Погода была под стать черным мыслям и черным событиям – сырая, с промозглым холодом конца ноября, с остатками мертвой листвы на почерневшей земле. Подъезд обнял теплом, и слезы ринулись на автомате…
Влад нашел Тима через час, сидящего на корточках в углу заплеванной площадки черной лестницы, потухшего, отревевшегося и выпотрошенного. Как рыба, из которой уже выпустили кишки, а она еще слабо шевелится, сопротивляясь неотвратимому. Сел рядом, достал пачку мальборо и они долго курили и молчали. «Пойдем ко мне?» «Не» «Хреново было?» «Типа того». Наконец Тим выдавил то главное, что осколком засело в самой глубине с утреннего разговора с психологиней.
– Влад, ты гей? – обычное в пацанячьих кругах слово «пидор» не выговорилось, застряло в горле, и Тим заменил его более мягким, хотя и экзотическим для их общества.
– По правилам на такое отвечают «Ты охуел?». Ну так – ты охуел, Иго?
Тим ждал с надеждой и тревогой этого ответа, но теперь почему-то не ощутил никакого облегчения. Что-то надломилось внутри и этого было никак не починить.
– Ты извини, но… я больше не приду.
– Никогда?
– Нет.
Влад закурил еще одну сигарету. Он что-то горячо говорил, но Тим не слушал и не слышал, дождался, когда он отбросит окурок.
– Я пойду. Пока.
– Пока.
Куртку из школы он забрал вечером, когда там оставались только остатки мелкой продленки…
...Осада шла уже три месяца. Абу аль-Джагар был родным дядей Тима. И Тим знал, что дядя его не пощадит. Один из них должен умереть, иначе другой всегда будет опасаться переворота. Таков закон.
В городе свирепствовали болезни. Кочевники засыпали источники воды трупами, вода стала нехорошей, пить ее было нельзя. Но высохшие от жажды люди пили и началась эпидемия. Мертвые тела скидывали со стен вниз - хоронить в городе было негде и нельзя.
Дед болел тяжело, от жара лицо его превратилось в желтую маску, губы растрескались и покрылись белыми пленками. Осажденный город остался без власти, если конечно не считать Тима. Все понимали, что в городе назревает бунт, рано или поздно измученные осадой люди не выдержат и откроют ворота. Дядя обещал всем сохранить жизнь, если жители сдадутся добровольно. Еще дядя обещал не отдавать город на разграбление кочевникам, если горожане выдадут ему Тима и назначил награду за его голову. Два антеля золота за мертвого и десять антелей за живого. Тим понимал, что если он живым попадет в дядины руки, смерть его не будет легкой. Про деда дядя ничего не говорил, потому что был уверен - дед умрет со дня на день сам.
Единственный, кто был по-настоящему верен Тиму - темнокожий аль-Гасанг. Раб тенью следовал за Тимом, даже если ему надо было в туалет. Когда Тим болел, Гасанг не отходил от его кровати. И в руках Гасанга Тиму почудилась любовь, забытая с той поры, как враги забрали маму. Тим удивлялся, ведь Гасанга был одним из самых жестоких убийц, которых ему довелось видеть.
В верности Гасанга Тим убедился вскоре еще раз. Однажды, когда они шли из дворца к Южным воротам, в узком проходе между домами их остановили 15 человек. Тим увернулся от первого удара и этим спас себе жизнь. Потом Гасанга убил всех голыми руками. После этого раба стали считать демоном подземелий Арвварры и так боялись, что Тим под его охраной чувствовал себя в большй безопастности, чем окруженный полусотней дворцовой стражи.
Сегодняшнее рассветное солнце было особенно красным – день должен быть жарким. Тим хотел пройти по стене, осмотреть посты. Смысла в этом особого не было – кочевники штурмовать город не собирались. Зачем, если месяц-другой, и граждане сами откроют ворота. Или перемрут. Гасанга тронул Тима за плечо. Надо идти к деду, понял Тим. Знаки немого раба Тим давно уже понимал не хуже слов.
Они шли по улицам некогда прекрасного города. Людей было много. Больные, иссохшиеся лица, воспаленные глаза... Остро пахло мочой и гнилью. Тиму навстречу шли матери, несшие своих мертвых детей к восточной стене - туда, где их сбросят вниз, за пределы города, чтобы их маленькие разлагающиеся тела не губили живых. Дети умирали первые, им труднее давались тяготы жизни в осажденном городе. Тиму казалось, что матери смотрят на него с упреком - их дети погибли, а он, Тимур, почему-то жив. Было стыдно. Стыдно, что он жив, сыт и здоров. Ему казалось, что он должен нести те же тяготы, что и весь народ. И даже больше. Еще почему-то было стыдно за то, что его родители погибли - ведь он никому не дорог на этом свете, никто по нему не заплачет. Зачем тогда он, никому не нужный, жив, а эти дети умерли, несмотря на то, что их так любят?
Еще Тим думал, что мог бы спасти этих людей, если бы добровольно пошел и сдался врагам. Его бы убили, но зато тысячи остались бы жить.
Тим, наверно, согласился бы умереть красиво. Жаль, что мама спасла его, когда враг хотел отрубить ему голову. Это была бы красивая смерть. Но умирать медленной смертью, голым, униженным, с распоротым животом, Тим не хотел.
Деду стало хуже. Черты лица заострились, под глазами залегли черные круги. Он лежал неподвижно, лишь воздух со свистом и хрипом выходил из груди. Тим не любил деда. Тем более Тим сомневался в том, что дед любил его. Его водворение во дворец скорее всего произошло по политическим соображениям.
Утром Тим стал властителем Маннервархана, а деда похоронили в фамильной усыпальнице под длинной плитой из горного известняка, покрытой вязью старинных букв.
Вечером, когда Тим шел на военный совет, его схватили, сорвали с него дорогие одежды и кинули в яму. Это сделал аль-Гасанга, темнокожий ночной убийца и верный Тимов телохранитель. В яме было холодно. Прежде, чем бросить в яму, раб его связал. Тим лежал в яме и мучился - ему надо было в туалет. К утру он обмочился - терпеть больше сил не было…
К вечеру аль-Гасанг отнес Тима в стан аль-Джагара, получил десять антелей золота и свободу. Аль-Джагар снял рабский ошейник с горла Гасанга, и тот растворился в темноте.
Тима трясло от холода и нервного напряжения. Он валялся недалеко от дядиного шатра. Кто-то плюнул на него, его пинали, так, несильно, а мальчишки, которых в стане кочевников было много, кидали грязью и мочились ему на лицо…
Зоопарк открывался в девять, и каждое утро теперь Тим начинал там. Приходилось померзнуть, пока наконец не щелкало окошко ранней кассы. Взяв билет, Тим почти бегом устремлялся в Аквариум, самое теплое помещение в полуподвале.
Раньше Тим, конечно, иногда размышлял об устройстве мира, но всегда как-то мимолетом. А тут тяжелые мысли буквально рвали душу. Конечно, он был еще только мальчик, а потому не знал – именно большая беда пробуждает в человеке нестерпимую тягу разобраться в устройстве мироздания, столь жестокого в своем беспросветном безразличии к нам. Мысли приходили разные, и порой странные. Иногда он думал, что может ничего страшного, даже если бы ЭТО и было… Ну, и можно ли отдать такую жертву за настоящую дружбу? В конце концов с него не убудет… Но переступить через себя не мог. Впрочем, дело теперь уже в другом – появиться в школе или дворе стало немыслимо – легче сдохнуть…
Смотреть на неторопливое круженье зелено-золотого подводного мира было особенно приятно от сознания, что осталось недолго. Тим обдумывал способ умереть, и в каждый из дней мысленно прокручивал новый вариант – будто сочинял концовку для трагического романа. Впрочем, он отлично понимал, что убить себя не сможет – просто слишком он боялся небытия, вечной тьмы, да и предсмертной боли, того момента, когда яростно будешь жаждать жизни – но уже поздно, уже пройден неумолимый рубеж, за которым ждет вечное ничто. Но воображать, придумывать каждый раз новое трагическое кино о своей несчастной судьбе доставляло ему сладкое удовольствие, временами он и вправду верил, что остается всего один маленький шаг. От таких мыслей становилось легче. Потом Тим шел смотреть мультики на десятичасовой сеанс в так удачно рядом построенный кинотеатр…
Развязка случилась неизбежно, когда из школы сообразили позвонить домой, и вечером Тима уже ждали – мать (мамой он уже про себя ее не называл) и дядя Жора, причем последний придал своему лицу суровый и значительный вид, от чего Тиму все время хотелось смеяться. Материнские расспросы, крики, угрозы тонули в Тимовых односложных ответах – нет, не хочу, не пойду… Иногда он просто молчал, упершись взглядом в книжную полку.
– Что ты молчишь?! Да наконец, Жора, сделай что-нибудь!
Дядя Жора поднялся неторопливо, как бы стараясь не растерять свой напыщенный вид, и Тим не выдержал – прыснул негромко, но достаточно выразительно.
– Люба, да что ты мучаешься! Он же тебя в грош не ставит! Ладненько, сейчас у меня по-другому запоешь!
Тим не ожидал, что при небольшом росте и забавной внешности руки у дяди Жоры железные – и вдруг оказался скрюченным, с постыдно спущенными штанами… От ярости, от сжигающей ненависти и немыслимого позора он рванулся с неожиданной силой и впился зубами в эту ненавистную, покрытую редким волосом руку. Дядя Жора заорал каким-то высоким голосом и вмиг Тим оказался свободен. Штаны он застегнул на лестнице, а до Влада пришлось бежать, так как выскочил в одной майке. Долго жал кнопку звонка, вслушиваясь с удивлением в громкую музыку и голоса за дверью. Наконец щелкнул замок– и возник Влад пьяный, в наброшенном на голое тело халате, совершенно не похожий на себя. Наглый, ленивый, развязный … Казалось, он тоже не сразу узнал своего демона в этом расхлюстанном, растрёпанном пацане с грязными потеками на лице…
Квартира была полна каких-то парней и девиц, тоже пьяных и полуголых, музыка почти ревела. Тима провели на кухню, в стакан налили нечто темное и крепкое, от чего сразу перехватило дыхание, а потом расползлась блаженная нега. Впервые холод, терзавший его всю неделю, растворился, будто растаял кусочек льда, засевший где-то под самым сердцем с их последнего разговора. Показалось, что все хорошо, а будет еще и лучше. Тим опять налил себе этого темного, от которого перехватывает дыхание…
Потом музыка стихла, комната стала полутемной, а Тим оказался на диване рядом с Владом, целовавшим взасос тонкую, светловолосую девицу в задранном топике, из-под которого выглядывали две небольшие крепкие грудки с острыми сосками. Тим протянул руку и потрогал их, девица засмеялась. Грудь была упругая, теплая и гладкая.
– Смотри, какой нахальный одуванчик, – сказала девица и положила ему руку на лоб.
Влад посмотрел пустыми глазами, а Тим сжимал и выкручивал эту женскую плоть с неожиданно вспыхнувшей ненавистью, ногти побелели, оставляя на бледной коже такие яркие кровяные полосы. Тонкий визг, потом злые глаза Влада и голова взорвалась. Он оказался на полу. «Маленький урод! Извращенец!» – девчачий голос резанул заложившую уши ватную тишину. Его подняли и несли, это уже была Владова комната, мастерская, здесь было темно и почти тихо, узкий диван так привычно пах непросохшими холстами… Сильно кружилась голова и диван немного покачивался, будто шлюпка на большой океанской волне. Радужный аромат масляных красок, всегда столь приятный, вызвал резкий приступ тошноты, его рвало фонтаном … С тихим ужасом он представил себя, беспомощного, в липкой, пронзительно-вонючей жиже...
Потом была ванна с очень горячей водой, Влад мыл его как когда-то, еще мелкого, мыла мама…
Когда Тим проснулся, было светло. В голове переливалось и шумело. Вспомнился ночной позор. Как Влад его отмачивал в горячей ванне, а перемазанную блевотиной одежду пихал в стиралку… Кое-как задрапировавшись в простыню, Тим пробрался в ванну и влез в еще сырые джинсы. Пробрала дрожь. В ванну заглянул веселый Влад:
– Че, алкаш, кофе пить иди… Головка бо-бо?
– Ну так.
– Похмельный синдром зовется. Че наряжаешься? Никого нет, дай штанам просохнуть. На вот…, – Влад сдернул махровый халат, в который могло свободно поместиться два Тима. Тим прошлепал в кухню, где уже призывно дымилась кружка черного кофе.
– Сегодня, фиг с тобой, отдыхай, но завтра пойдешь в школу.
– Ты мне отец, что ль?
– Если будешь со мной жить, я тебе хуже буду, – очень серьезно пообещал Влад.
– А с чего ты решил…?
– А что, не так?
– Так.
– А если так, то будь любезен завтра в школу.
– Но…
– Иначе тебе все мозги вынесут, да и мне тоже. Еще и ментовку подключат. Да не боись, все уже нормально. Тебе никто слова не скажет. Юрочка в больнице.
– Че с ним?
– Перелом носа.
– Ты?!
– Нет. Неважно.
– Он?
– А ты думал с Воланом Кобыла поделилась?...
Дома решение переселиться к другу восприняли достаточно спокойно при всех бурных возражениях. Возражения были для вида, но на самом деле, похоже, были рады – никто теперь не станет мешает вить новое гнездо. Гнездо, в котором неудавшемуся прошлому не должно быть места. Прошлым был Тим.
В школе действительно все было тихо. Волан при встрече отворачивался или глядел сквозь Тима будто тот стеклянный. Короче в упор не видел. В классе никаких ТАКИХ разговоров не было. Видимо, Влад умел хорошо решать проблемы.
Юрочку заменила историчка-практикантка, юная, а потому еще совсем не злая.
Но главное – снова была мастерская, разговоры о высоком и прекрасном, веселая компания добрых людей и старика-художника… Заказ Серафимыч сдал, а потому торчать часами голышом без движения уже не требовалось. Теперь он позировал только Владу, который спешил закончить своего демоненка к какой-то весенней выставке. Впрочем, в мастерской Тима считали своим и без высокой миссии натурщика, а Серафимыч даже пытался учить его рисовать, впрочем, тоже без всякого успеха…
В школу вернулся Юрочка, но проблемы как-то закончились. Он по-прежнему смотрел мимо Тима, но теперь вовсе не замечал, будто семиклассник Рамбаев и не присутствовал на уроке. У Тима возникло странное чувство, что он превратился в привидение. Его не спрашивали, и можно было преспокойно предаваться на уроках постороннему чтению или другим важным делам. Однако оба старались сохранять если не мир, то хотя бы перемирие, и Тим лишнего себе строго не позволял.
После весенних каникул объявили экскурсию в музей Востока. Экскурсия была в субботу, а потому не очень обязательная. Можно было не идти, но Тим пошел. Прикоснуться к реальности своих снов было немного страшно, но невероятно завлекательно.
Они ходили по залам с китайскими масками и японскими самураями. Это было красиво и интересно, но ведь не за этим он сюда шел… Тим тихонько слинял от экскурсионной группы и поднялся на этаж выше, где показывали Среднюю Азию. Странно, но древние кувшины, покрытые трещинами времени, заржавленные наконечники копий и странные мозаики никак не отзывались, ничего не будили в его сердце. Это были экспонаты, просто экспонаты…
Уже некоторое время Тим искал туалет. И с каждой минутой необходимость становилась сильнее. Спрашивать у бабулек-охранниц про столь низменную вещь он стеснялся. Он увидел открытую дверь, за которой была совсем не музейная, заплеванная и закуренная лестница. Тим решил, что туалет точно должен быть в каком-то таком, не слишком притязательном месте…
Искомую комнатку с грязноватым унитазом и пожелтелой раковиной он нашел быстро, но потом выяснилось, что он заблудился. Точнее, попал в ту часть музея, где были всякие служебные кабинеты и подсобки. Видимо, и туалет бы тоже служебный… В коридоре было безлюдно и тихо. То ли у сотрудников был обед, или же всех их вызвали на какое-нибудь совещание. Одна дверь была распахнута и за ней стояли стеллажи с деревянными лотками, забитыми осколками древних горшков и какой-то ржавчиной. Тим испугался, что его поймают и с позором выставят, а то еще и сдадут в милицию. Как вернуться в часть для посетителей Тим не знал, а потому пошел прямо по узкому коридору и через несколько шагов уперся в дверь с табличкой «А.В. Бродышев к.и.н., зам.начальника Амударьинской экспедиции». Тим понял – это судьба. Вообще-то незнакомых людей Тим стеснялся, а особенно – бородатых мужиков. При них он впадал ступор, покрывался холодным потом и начинал заикаться. Бродышев в телевизоре был сильно бородатый. Но тут Тим собрался с силами и потянул ручку двери. Однако в комнате никого не оказалось.
Одиноко светился монитор посреди стола, на котором наблюдался изрядный кавардак. Наиболее удивительным элементом научного дизайна был череп, лежащий прямо посреди прочего хлама. Вполне могло быть, что это ТОТ САМЫЙ череп. Его череп из той жизни. Череп смотрел пустыми дырами на Тима, и была в этом взгляде призывная жуть. Он подошел к столу и погладил черепу затылок. Будто самому себе сквозь века. Под черепов валялись разбросанные в беспорядке бумаги. Рядом лежал заветный серебряный кругляш, раздавленный когда-то копытом Орханги. Тима пробрал озноб. Кругляш мгновенно связал тот мир и этот, сделал призрачную страну снов реальной и осязаемой… Тим сжал его в кулаке и стал рассматривать бумаги, испещренные забавными рисунками. Чертежами и письменами. На одном листе был вычерчен все тот же кругляш, только огромный, и кто-то неумело и до смешного бестолково попытался воссоздать сбитую копытом надпись. На другом было изображение черепа фас и профиль с какими-то стрелочками и нерусскими надписями. Третий, прижатый хищным наконечником стрелы пустынных кочевников, был испещрен знаками, чужими, незнакомыми письменами. Впрочем, когда Тим вгляделся, то из строчек стал проступать смысл. Это было непонятно, но увлекательно. Мальгарское шифрованное письмо для торговых сделок. До Тима не сразу дошло, что он хоть и совсем немного, но понимает этот язык. Удалось разобрать имя Тимурин…
Тим торопливо выдернул из рюкзачка тетрадку, рванул листочек и стал корявым почерком переписывать документ. Но не успел записать и двух слов, как в коридоре послышались шаги, голоса, смех. Схватив лист с текстом и судорожно комкая его в карман, он рванул из кабинета. Каким-то чудом сразу вылетел на искомую лестницу к нужной двери. Его никто не видел…
Уже на улице, отдышавшись, Тим с некоторым удивлением обнаружил в кармане помимо бумажки и кругляш, и наконечник стрелы…
А в понедельник с третьего урока его срочно потребовали к директору. В кабинете кроме Кобылы сидел бородатый очкарик, в который при ближайшем рассмотрении оказался Бродышевым из телевизора. Перед очкариком лежала тетрадка с нарисованной зеленой ручкой рожей, у которой были выпучены глаза, из разинутой пасти свешивался раздвоенный язык, а уши торчали ослиные. Рожу нарисовал Тим месяц назад как портрет училки по географии Анны Николаевны Астаховой. В отмщение за несправедливую пару, поставленную за забытый дома учебник. Пара была обидная, так как географию Тим учил весь вечер. Так за учебником и заснул, отчего и позабыл сунуть утром его в рюкзак. Тим распереживался тогда ужасно, потому рожа вышла достаточно отвратительная, хотя на Аннушку совершенно не похожая. Для понятности под портретом пришлось поставить надпись – «Астахова – сука», дабы не оставалось сомнений. Остыв, Тим хотел тетрадку выкинуть, но потом стало жаль – она была почти не тронута школьными записями, и он пустил ее под черновики. Из этой тетрадки позавчера он вырвал листок в музее, а саму тетрадь в запарке забыл на столе. Кроме рожи на обложке красовалась надпись, выполненная корявым почерком – ученика такого-то класса и такой-то школы Рамбаева Тимура… Тим понял, что пропал. Глупо пропал…
Кандидат исторических наук смотрел на него каким-то рыбьим, бессмысленным взглядом. Человеку с такими глазами чувство сострадания явно не могло быть известно.
– Так, теперь до кражи докатился, – удовлетворенно начала Кобыла, – а ведь за ограбление музея тебя можно свободно в специнтернат отправить. Ты хоть это понимаешь? Ну что, звоним в милицию? Как, Андрей Владимирович?
Бородатый продолжал сидеть молча, только гулко сглотнул. Его выпуклые, светлые глаза словно собирались высверлить отверстие у Тима в переносице…
– Для начала немедленно верни все украденное! – не дождавшись ответа бородача, продолжила Кобыла прежним грозным тоном, – Это же надо – в музее! В храме науки! И ведь раньше был нормальным ребенком. Мама образованная… Я жду!
– Чево?
– Возвращай, что украл. Разговаривать потом будем… и не здесь, а в милиции.
– У меня всё дома…
– Ну вот, что и требовалось доказать, – удовлетворенно сообщила Кобыла, – будем милицию подключать, Андрей Владимирович? Или пусть он принесет, а уж мы сами потом разберемся и накажем?
Милицию Кобыле явно подключать очень не хотелось, поэтому голос ее стал просительный и в нем даже проскользнула униженная нотка.
Бродышев опять сглотнул и вдруг его глаза потеряли эмалевый блеск. Стали какими-то обычными и даже уютными.
– Татьяна Федотовна, вы меня извините, можно я просто поговорю эээ с… с Тимуром? – последнее слово он будто с трудом из себя выдавил, как остатки пасты из тюбика, – если позволите, мы бы пошли... А милицию, нет, конечно, не надо… Мальчик отдаст, что взял… Мы как раз сходим…
– Идите, – облегчённо разрешила Кобыла, – И чтобы без фокусов, Рамбаев!
До дома Влада они шли молча, также молча поднялись на лифте.
– Подождете? – пускать бородача в чужую квартиру Тим не собирался.
Бродышев кивнул с каким-то зачарованным видом. Тим нырнул за дверь и через минуту появился с листком и наконечником.
– А, нет, это не важно, это хлам… там была бляшка… серебряная, она у тебя… сохранилась?
Тим расстегнул рубашку и попытался стянуть через голову кожаный ремешок. То ли голова оказалась слишком большой, то ли петля слишком тесной, но снять кругляш не получилось. Порвать крученую кожу от старой дубленки Владовой мамы тоже не удалось.
– Ща я за ножом схожу…
– Подожди…
Бородач расстегнул свой допотопный портфель и выудил твердый глянцевый лист, некоторое время смотрел в него, потом на Тима. Протянул. Это было черно-белое фото, только одно лицо, в котором Тим узнал себя. Снято было здорово, так, что пропечатался каждый волосок, каждая ресничка, и даже крошечное родимое пятнышко над верхней губой. Только глаза были не светлые, а почему-то темные…
– У вас там камера, скрытая? В кабинете?
– Камера? А… э… нет. Переверни.
Тим перевернул снимок, на обратной стороне было мелко отпечатано «Портрет, восстановленный по черепу № 1387, захоронение АланСы-7, мальчик 12-13 лет. Работа по восстановлению проведена лабораторией Е.В. Лебедевой, Институт антропологии имени Миклухо-Маклая, реконструктор Ахмелкин П.Е.,… »
– …когда ты вошел, я решил, у меня галлюцинации… Я с этим могильником с лета вожусь, и все не никак. Откуда? Почему? Что за подвеска? …и во сне вижу… Все время в голове крутится, вот и подумал, что доигрался до психоза… но до чего похож… и еще имя на той тетради… Тимур…
Речь археолога становилась не вполне связанной. Тим испугался, как бы бородач и вправду не свихнулся прямо тут. И что тогда делать?
– Я вас по телеку видел, летом…
– Интересуешься археологией?
– А… да. Не всякой, – честно признался Тим, – а Вы это письмо прочли?
– Ммм, да, хотя там не все ясно, конечно…
– А перевести можете?
«7-го числа второго осеннего месяца купец Пахлаван-али из Джантира, известный среди равных, приобрел у тысячника Аджигра из Марганды, известного среди равных, раба именем Тимурин для продажи на рынке Хужарлы… каковой купец обязуется мальчика беречь и члены его не вредить, зрения не лишать, язык не вырывать, но в целом теле доставить в Хуржал, где лишить мужеского достоинства и продать по надобности, лоб заклеймив… О чем тысячнику сообщить и доказательство прислать»
– Ссука…
– Что?!
– Я про этого… тысячника.
– Тут много непонятного. Если продает в рабство, зачем ему все эти сложности? Продал, деньги получил и забыл. И что значить лишить мужеского достоинства?
– Яйца отрезать, – мрачно разъяснил Тим, поразившись взрослой тупости.
– Оскопить… Да? А почему только в Хуржале? Почему не сразу? Непонятно…
– Все тут понятно.
– Да? – иронично спросил Бродышев, – и что же тебе понятно такое? О чем нам, специалистам, не догадаться?
«Все взрослые одинаковы, – подумал Тим, – даже ученые. Раз пацан, значит ничего дельного не скажет»
– Тимурин – наследник. Если погибнет, потом найдутся, кто скажет, это я – Тимурин, и найдутся, кто им поверит. Это всегда опасно. Если продать, все равно опасно, могут выкупить, всегда есть, кто захочет власть… А евнух – это безопасно. Все знают – жив. Знают, где. Но какое войско пойдет за… кастратом. А не сразу, чтоб не сдох по дороге.
– А пожалуй… да, может быть… но это же все объясняет! Слушай, ты гений! Ну конечно… значит, все же наследник… Тимурид… Жаль, что надпись на подвеске сбита…
– Там было сказано – наша сила и власть вечна.
– Так, да, это девиз Тимуридов. Но почему ты знаешь? И зачем сбили надпись?
– Не зачем, а чем. Копытом.
– Каким копытом?
– Лошадиным. Это…
Тим зажал кругляш в кулак.
– Можно я ее оставлю? – спросил Тим.
– Я бы рад, но… понимаешь, меня просто уволят, это очень важная находка, и по всем каталогам…
– А поносить?
– Нет. Хотя… – Бродышев опять зачаровано посмотрел Тиму в лицо. Видимо, таинственность сходства двух мальчиков так и не отпустила археолога. – Ладно... не потеряй. И через неделю...
– Я привезу, честное слово!
Но Тим не привез – ни через неделю, ни через месяц…
Через неделю забрали Серафимыча. Забрали вместе с эскизами, на которых в изобилии был Тим. Студию перевернули вверх дном, впрочем, Тим этого не видел. Самое ужасное, что Влада рядом не было – он укатил по своим фанатским делам в Питер на две недели, наотрез отказавшись брать Тима с собой. «Это не та компания, что тебе нужна», - только и сказал. И даже не оставил телефона, где его искать, если что… Зато оставил денег, на которые Тиму надлежало кормиться до его возвращения. Родители Влада не ожидались раньше, чем к лету. Да и вообще не очень ожидались – как выяснилось, отец недавно получил американское гражданство, а мать грин-карту. Звали в заокенские прелести и сына, но он отказался наотрез…
…Когда Тим очнулся второй, на шее был металлический ошейник. От ошейника шла цепь. Было темно, отчаянно воняло немытыми человеческими телами, кто-то сопел и шевелился в темноте, гремя цепью. Невольники, подумал Тим. Я раб, и меня будут продавать на рынке как лошадь или корову.
Жутко хотелось пить. Утром их вывели из подвала и повели по дороге. Все невольники были прикованы к общей цепи. Ошейник давил и резал плечи. Они шли через села, и мальчишки кидали в них грязью, крича обидные и презрительные слова. Днем их осмотрел тощий, длинный мужик в темном сирийском хитоне. Он смазал Тиму раны на шее сильно пахнущей мазью, потом обернул ошейник кожей, чтобы железо не так резало на ходу плечи.
Их накормили какой-то жуткой похлебкой из тухлого мяса и червивой крупы. Многие из рабов были вовсе голые. Всем было наплевать на наготу, мужчины и женщины валялись вперемешку. Кроме Тима был еще совсем маленький мальчик, он не был прикован, мать несла его на руках. Мальчик умер через три дня пути, но женщина продолжала нести его тело еще несколько дней, пока его насильно не отобрали.
Через неделю они пришли в город, где вместо домов были круглые кожаные шатры. Город кочевников, подумал Тим. Тим слышал о таких городах, выраставших на пару месяцев в степи, а потом так же исчезавших, чтобы появиться в другом месте.
Его отвели к старику, который внимательно ощупал его иссохшее, покрытое струпьями тело. Тим понял, чем старик промышляет, лишь когда тот стянул с него штаны.
– Сейчас нельзя, помрет, – сказал старик, – Откорми, отмой, потом приводи.
Но это не входило в планы сирийца.
Утром их выставили на продажу. В кочевом стане базарная площадь была даже больше, чем в Мараканде. Торговали в основном невольниками и оружием. Покупатели подходили к рабам, осматривали их мускулы и зубы, щупали грудь женщинам, изучали кожу на чесотку и болезни. Тим понял, что их компания относилась к самой низкой категории - плохо или вовсе не одетые, с язвами на теле, со сбитыми от дальней дороги ногами, они стоили очень дешево. Цена также определялась и возрастом, Тим стоил дешевле остальных. Сириец сожалел, чтомальчика нельзя кастрировать, цена евнуха была примерно в пять-шесть раз выше. Тим твердо решил – если до такого дойдет, он умрет. Тонкий длинный гвоздь Тим нашел на дороге, когда их гнали из Мараканды в кочевой стан. С тех пор прятал его в лохмотьях. Его не обыскивали – сириец брезговал. Тим его хорошо понимал. Вонючий, обгаженный, с волосами и одеждой, кишащей паразитами, с язвами по телу он вызывал отвращение. Перед продажей их прямо в одежде загнали в мутную реку. Это называлось мытьем. Тим был счастлив и такому - хоть мочой от одежды нести перестало. Гвоздь Тим собирался воткнуть гвоздь себе в горло, если дело дойдет до постыдной операции. Но ему повезло – делать операцию сириец боялся, слишком легко Тим мог умереть от потери крови или заражения. Сириец хотел побыстрее избавиться от некачественной партии невольников и принял решение продать Тима так как есть. Невольников в эти дни не секли, чтобы не портить товарный вид и даже стали кормить получше.
На рынке Тима несколько раз осматривали, но покупать никто не хотел. Прикованный рядом с ним пожилой раб постоянно болтал: «Плохой хозяин. Кто так с товаром делает - ты отмой, одень, откорми, а потом продавай... И цена другая будет, и нам хорошо. Жадный! Вот зачем ты ему? Мальчишки сейчас не в цене, тебя купят или чтобы сделать евнухом в гареме, или для представлений со зверьми. Так сначала кастрируй, а потом продавай. Больше ты ни для чего не годишься. Если евнухом, считай ты счастлив. Будешь вкусно есть, мягко спать. А это дело, оно зачем? Одна морока от женщин. Поверь мне. А иначе выкинут тебя на арену, сожрет тебя тигр или лев. А вот меня могут купить поваром, я работал раньше поваром в одном доме. Когда купят, тебя здорово отходят хлыстом. Чтобы дурь выбить, чтоб боялся...»
Шли дни. Тим жил как во сне - ел вонючее пойло, стоял день на рынке, спал вповалку в пропахшем мочой и потом шатре. Болезненная усталость овладевала Тимом все сильнее, притупляя волю и желания, лишая мыслей и чувств. Он превратился в измученное животное.
К концу второй недели от партии рабов остался он один. Тима жутко донимали паразиты - все тело горело и чесалось. Он стал сильно кашлять, исхудал и ослаб. На рынке Тим все больше сидел, привалившись к столбу, на который пристегивали его цепь.
На 11 день торговли хозяин сказал, что если Тима сегодня не купят, он его прирежет. Тим немного обрадовался, что наконец кончатся все мучения. Но в этот день торговля пошла оживлённее. Его осмотрели несколько раз, беззастенчиво задирая грязную рубашонку, стягивая штаны, ощупывая тощенькое тело, заглядывая в рот. Тим ощущал себя куклой, механически поворачивался перед покупателями, раздевался, приседал, раздвигал ноги, открывал рот.
Хозяину настолько надоело торговать Тимом, что он готов был отдать его почти задаром. Но покупатели не хотели брать - боялись, что помрет. Другие торговцы смеялись над жадностью сирийца. К вечеру насмешки хозяина достали. Хозяин вытер о штаны нож, которым только что ел дыню, сорвал с Тима рубаху. На груди сверкнул чудом сохранившийся Знак из лунного серебра. Но жадность оказалась сильнее, и хозяин, отбросив нож, сорвал свою злость с помощью хлыста. Хлыст рванул кожу на спине, но Тим от слабости не кричал, он уже почти и не чувствовал боли.
Краснобородый всадник в волчьей шапке на крупном коне сказал что-то на незнакомом Тиму языке, хозяин повернулся, уронил хлыст и лицо его стало белым.
-Сколько стоит эта дохлятина?
Хозяин ответил по-сирийски.
– Такой? Ты жаден! Этого хватит, – краснобородый не торговался – приказывал.
Монета сверкнула в воздухе и упала к ногам сирийца. Пока сириец под гогот толпы ползал в пыли, краснобородый соскочл с коня, подошел к Тиму и сильным рывком разорвал железное кольцо на его шее. По толпе пролетел вздох восхищения. Взяв Тима под мышками он посадил его на лошадь и вскочил сам следом. Как ему не противно, подумал Тим, ведь от меня воняет…
ОКОНЧАНИЕ: Тим всё узнал от Ольги...
Категория: Этнография детства / Искусство / Книжная полка
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1 дней со дня публикации.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1 дней со дня публикации.